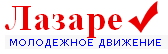–≠—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–µ—А—Б–Є–є, –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–і—А–∞–≤–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–≤—И–Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–µ–µ. –Ш–љ—Л–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –±—Г–є–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ—Г –≥–Є–њ–љ–Њ–Ј—Г, —З—В–Њ, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –∞–±—Б—Г—А–і–Њ–Љ –Є –≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—Б—В—А–Њ–Љ —А—П–і—Г –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ — —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г –≤—Б–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П–Ј–љ–Њ, –∞ —Г–ґ –≤—Л–≤–Њ–і—Л –і–µ–ї–∞–є—В–µ —Б–∞–Љ–Є.
–С–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є –±–∞–±—Г—И–Ї–Њ–є, –њ–Њ—З—В–Є –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Є —Н—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–µ–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ — —Б—В–∞—А—Л–є –Є–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є, –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –Є–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є, –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –Є–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є — –Ј–≤–∞–ї–Є –µ–µ “–±–∞–±—Г—И–Ї–∞”, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ –≤—Л—Б—И–µ–Љ—Г –Ј–≤–∞–љ–Є—О (–Ї–∞–Ї, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—Б—Б–Є–Љ—Г—Б –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є). –Т –Љ–Є—А–µ, –≥–і–µ –≤—Б–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –і—Г–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞—И –Љ–Є—А –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, “–≤—Б–µ”, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В — –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—Б–µ; –љ–∞—И–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –≤–Љ–µ—Б—В–µ –±–µ–Ј —В–µ—Б–љ–Њ—В—Л, –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л —Б—А–µ–і–љ–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ —Б–µ–ї–Њ. –£ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –ї—О–і–µ–є (—П –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Г–ґ–µ –Њ –љ–µ–Ї—А–Њ–≤–љ—Л—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е, —Б–Њ—Б–µ–і—П—Е, –і—А—Г–Ј—М—П—Е –Є–ї–Є –љ–µ–і—А—Г–≥–∞—Е) –µ–і–≤–∞ –ї–Є –Њ—В—Л—Й–µ—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ. –° —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ “–±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞” –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –≤—Б–µ–Њ—Е–≤–∞—В–љ–Њ—Б—В—М, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—А—Г–≥ –µ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–∞, —П —В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—О, –Ј–≤–∞–ї–Є –µ–µ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г “–≥–Њ–≥–Њ”, –љ–Њ —Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П, –Є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Є—Е –≤ —А–∞—Б—З–µ—В, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –≤ —Б–µ–ї–µ –≠—Ж–µ—А–∞, –≥–і–µ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Ј–≤–∞–ї–Є –µ–µ “–±–∞–±—Г—И–Ї–Њ–є –Р–љ–љ–Њ–є”, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –і–µ–і –Ф—Н–≤–Є1, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–µ—В—А–Є–Ї–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Ј–≤–∞–ї–Є –Ф—Н–≤–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –µ—Б–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ, –Њ–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞—В—Л–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–≤–∞–ї –љ–Є “–і—Н–≤–Њ–Љ”, –љ–Є –і–µ–і–Њ–Љ, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —П –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –Ї –љ–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –Ї –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ—Г. –Ф–∞ –Њ–љ –Є –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –і—Н–≤–∞, —П –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О —В–Њ—Й–Є–Љ, –љ–Є–Ј–Ї–Њ—А–Њ—Б–ї—Л–Љ, —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–љ–Є–Ї—И–Є–Љ–Є —Г—И–∞–Љ–Є, –≥—Г—Б—В—Л–Љ–Є —А—Л–ґ–Є–Љ–Є –±—А–Њ–≤—П–Љ–Є, —А–µ–і–Ї–Њ–є —А—Л–ґ–µ–є —И–µ–≤–µ–ї—О—А–Њ–є, —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞—А–Њ—Б—И–Є–Љ —А—Л–ґ–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є –ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л–Љ —А—Л–ґ–Є–Љ –ґ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ.
–Э–Њ —Н—В–Њ –≤—Б–µ –њ—Г—Б—В—П–Ї–Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —В–µ–Љ –ї–µ—В–Њ–Љ, — —Б–Љ–µ—А—В—М –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л.
–С–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –Є—О–љ—П, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї, –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–ї–Њ–љ—П—Й–µ–µ—Б—П –Ї –Ј–∞–њ–∞–і—Г –њ—Г—А–њ—Г—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Є–≤ –Ј–∞ –Ю–ї–µ–љ–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В, –љ—Л—А–љ—Г–ї–Њ –≤–љ–Є–Ј. –Т —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ—В–Њ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П — –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В. –Ъ—В–Њ-—В–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–µ –Р–љ–љ–µ —А–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В —И–µ—Б—В—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –∞—Е—В–Є –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—И–Ї–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ — –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤–∞—О—В —Б—В–Њ –ї–µ—В, —З—В–Њ –Є –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ –Љ–Њ—А–≥–љ—Г—В, — –љ–Њ –Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М-—В–Њ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–∞ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–і–∞–ї–∞—Б—М —В–µ—З–µ–љ–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–Є; –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–љ–Њ, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –≤–µ—Й–µ–є —В–µ–ї–Њ –µ–µ —В–µ—А—П–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ–∞ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Э–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–≤—Л—И–µ —В–µ–њ–ї–Њ –Є—Б—Б—П–Ї–ї–Њ, —Б–ї–Њ–Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –њ–Њ-–і–Њ–±—А–Њ–Љ—Г –Є, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Љ–Є—А–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ—Г—В—М –Є –Њ—В–Њ—И–ї–∞.
–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Љ–∞—П — –љ–∞—З–∞–ї–µ –Є—О–љ—П –љ–∞—И —Б—В–∞—А—Л–є –і–Њ–Љ –≤ –≠—Ж–µ—А–∞, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є, –љ–µ–≤–Ј—А–∞—З–љ—Л–є, –ї—О–±–Є–Љ—Л–є, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П —А–µ–±—П—В–љ–µ–є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —И–Ї–Њ–ї—Л — —Н—В–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Д–Є–ї–Є–∞–ї—Л –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–і–љ–µ–є — –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї—Л –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е –Њ—В—Б—Л–ї–∞–ї–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є—Б—В–Њ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Њ–±–∞–ї–і–µ–≤—И–Є—Е –Њ—В —Г—З–µ–±—Л, –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О. –Э–µ –≤—Б–µ—Е, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї-—Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ, —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ –Є –µ—Й–µ —З–µ–Љ-—В–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Є—Б–њ–Њ–і–≤–Њ–ї—М –≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ї –Љ–Њ—А—О, –≥–і–µ –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –±–µ–і—А–∞ –Є –њ–Њ—З—В–Є –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–Љ–∞–љ–Ї–Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–∞–ї–Є –Є—Е –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б—В–Њ–Є — —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д-—Б–Ї–Є–µ, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г –љ–Є—Е —В–∞–Ї –њ–Њ—Б–≤–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –≥–ї–∞–Ј–∞, —З—В–Њ, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–Є—Е, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Є–Ј —З—М–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –µ—Й–µ –љ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–µ—А–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—А–Њ–є –±—Л–≤–∞–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Є–і—В–Є –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б—В—Г–њ–Ї–Є. –Ф–∞, —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ
–Љ–љ–Њ–≥–Њ — –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Є —З–µ—В–≤–µ—А–Њ –њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ґ–∞–ї–Ї–Є—Е –і–µ–Ј–µ—А—В–Є—А–Њ–≤ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –£ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л –±—Л–ї–Њ –њ—П—В–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є (—З—В–Њ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–∞, –Є –µ—Б–ї–Є —П –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї—Г –Р–љ–љ—Г, —В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П): –і—П–і—П –Р–љ–і–µ, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж, –і—П–і—П –Р–Ї–∞–Ї–Є–є –Є –і–≤–µ –Љ–∞–Љ–Є–і—Л — –Э–∞—В–Њ –Є –У—Г—А–∞–љ–і–∞. –Ф—П–і—П –Р–љ–і–µ —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Њ—В—Ж–Њ–Љ —В—А–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є –і–µ–і—Г—И–Ї–Њ–є —В—А–µ—Е –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ф–∞–ї–Є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ—В –≥–Њ–і –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–≤—И–µ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≤–µ—Б–љ—Л –Є –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –ї–µ—В–∞ –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Љ—Л — –і–µ–≤—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–≤—Г—Е –Љ–∞–Љ–Є–і. –≠—В–∞ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П –∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є–Ї–∞, —П –і—Г–Љ–∞—О, –і–∞–µ—В —П—Б–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —И—Г–Љ–љ—Л–Љ –±—Л–≤–∞–ї –Є—О–љ—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Є –љ–µ–≤–Ј—А–∞—З–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ.
–Ф–Њ–Љ –љ–∞—И –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л —Б—В–∞—А–µ–ї –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ, —Б —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞ –љ–µ–≤–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –±—Л–ї —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–Ј–Ї–Є–є –Є –љ–µ—Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є (–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ –µ—Й–µ –Њ–±–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–ґ), –Њ–љ —Б–Љ–∞—Е–Є–≤–∞–ї —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–є —Е–ї–µ–≤, —З–µ–Љ –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–є –і–Њ–Љ, –≥–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ–∞—П –Є –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–∞—П –≤—Б–µ–Љ —Б–µ–ї–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М—П. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–ґ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –і—А–µ–≤–µ—Б–Є–љ—Л –Ї–∞—И—В–∞–љ–∞, –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–µ–µ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ, –Є —В–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤–і–Њ–ї—М –≤—Б–µ–≥–Њ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—Б–∞–і–∞ —В—П–љ—Г–ї—Б—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –±–∞–ї–Ї–Њ–љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤—Л–µ –і–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Њ–ї–∞–Ј–љ–∞—П –≥—А—П–Ј—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М –і–≤–∞ —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—В—З–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –і–Њ–Љ–∞ –±—Л–ї —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–≥–µ–Ї—В–∞—А–∞. –Я–Њ–≤—Л—И–µ, –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ, — —Б—В–∞—А—Л–є –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—З—В–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–ї–Њ–і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї, –≤–љ–Є–Ј—Г –ґ–µ, –≥–і–µ –Ј–µ–Љ–ї—П –њ–Њ—А–Њ–≤–љ–µ–µ,— –Ї—Г–Ї—Г—А—Г–Ј–љ–Є–Ї, —Д—А—Г–Ї—В–Њ–≤—Л–є —Б–∞–і –Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і. –°–њ—А–∞–≤–∞, –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Њ–Љ–Њ–Љ –Є –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ (—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –і–Њ–Љ—Г, —З–µ–Љ –Ї –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ–Є–Ї—Г), —А–Њ—Б–ї–∞ –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є—П. –Ъ—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї –µ–µ, —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –±–∞–ї–Ї–Њ–љ–∞ —Н—В–Њ—В –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ –Є–Љ–µ–ї –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ — –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ –Є–≥—А–µ –≤ –њ—А—П—В–Ї–Є –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–є, —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є, –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–є (–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л –і–ї—П –љ–∞—Б, –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ, —З–∞—А—Г—О—Й–µ –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–Є–є) —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т—Б–µ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ—Г –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г. –Х–≥–Њ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л (–Є—Е –±—Л–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ—А–Њ) –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–≤–Њ—О –і–Њ–ї—О –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞. –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ –ґ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –±–∞–±—Г—И–Ї–µ –Р–љ–љ–µ, –Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ-–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –Љ—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–є –Љ—Л –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–∞ –і—Г—И—Г, –≤–µ—А–љ–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ–Њ –њ–∞—А–µ –і–Њ—Б–Њ–Ї –Є –њ–∞—А–µ –Ї–Њ–ї—Л—И–µ–Ї –і–ї—П —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ–Њ–є –ї–Њ–Ј—Л, –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –і–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –љ–µ –і–Њ—И–ї–Њ. –Я–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—О –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≤—Б–µ –Њ—В–Њ—И–ї–Њ –і—П–і–µ –Р–љ–і–µ, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –Љ—Г–і—А—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є —П —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–Є –Љ–љ–µ –≤–љ–Њ–≤—М —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ –≠—Ж–µ—А–∞. –Ф—П–і—П –Р–љ–і–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї —Б—В–∞—А—Л–є –і–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –љ–Њ–≤—Л–є, –≤—Л—А—Г–±–Є–ї —Б—В–∞—А—Л–є –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ–Є–Ї –Є –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —В–∞–Ї –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Љ–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–∞–ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–±—Л –љ–µ —В–Њ—Б–Ї–∞, —Б–ґ–Є–Љ–∞–≤—И–∞—П —Б–µ—А–і—Ж–µ.
–Э–Њ —Н—В–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, –∞ —В–Њ–≥–і–∞, –≤ —В–Њ —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О, –Є –Љ—Л –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Њ–≤–љ–Є–Ї–µ.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—В —В–µ–Љ –ї–µ—В–Њ–Љ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –°–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ј–∞ –і–Њ–Љ–Њ–Љ –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Ј–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ —В—А—Г–і–љ–µ–µ –Є —В—А—Г–і–љ–µ–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П “–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є” –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–ґ, –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П –≤–µ–і—Г —А–µ—З—М, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Н—В–∞–ґ –±—Л–ї —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –і–ї—П —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ґ–∞–Љ –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г—И–Ї–µ, –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–µ–є –Ї –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–µ, –Є —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–∞ –Є –і—П–і—О –Р–љ–і–µ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–∞. –Ф–Њ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є –≤—Б—П –Љ–∞–ї—Л—И–љ—П, –Љ—Л –ґ–µ, —З–µ—В–≤–µ—А–Њ –±–Њ–ї–µ–µ-–Љ–µ–љ–µ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е —А–µ–±—П—В (–Ы–∞–і–Њ, —Б—Л–љ –і—П–і–Є –Р–љ–і–µ, —П, –Ф–∞—В—Г–љ–∞, —Б—Л–љ –і—П–і–Є –Р–Ї–∞–Ї–Є—П, –Є –У–Є–Њ, —Б—Л–љ –Љ–∞–Љ–Є–і—Л –У—Г—А–∞–љ–і—Л), –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–Њ—А–Ї—Г –њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М.
–У–Њ—А–Ї–Њ–є –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—А–Њ—Б—И—Г—О –≥—Г—Б—В—Л–Љ –ї–µ—Б–Њ–Љ –Є –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г —Г—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Г—Б–∞. –£—Б–µ—З–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –ї—Г–ґ–∞–є–Ї—Г, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Г—О —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Г—О –Є —Г–і–Њ–±–љ—Г—О –і–ї—П –ї—О–±—Л—Е –Є–≥—А. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –ї—О–±–Є–ї –µ–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ: –Њ—В—В—Г–і–∞ –Љ–Є—А –Ї–∞–Ї –±—Л –Ї–Њ–≤—А–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Є–ї–∞–ї—Б—П —Г –Љ–Њ–Є—Е –љ–Њ–≥, –Є –µ—Б–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П –Љ–Њ–ї—З–∞ –≤–Ј–Є—А–∞–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞ –љ–µ–Ї–∞—П –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–∞—П —Б–≤—Л—И–µ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ—А–Є—П—В–љ–∞—П –і—А–Њ–ґ—М.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –Ї—А–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –Ы–∞–і–Њ —В—Г—В –ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –≤ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ы–∞–і–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–ї, –Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —В—А–Є –і–љ—П –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –љ–µ –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ —Б –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ—Г —В–Є—Е–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ—Л–≤–∞–ї–∞. –Ь—Л —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –Є–≥—А—Г –Є —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–µ–ї–Њ. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ы–∞–і–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї–Њ—Б—М: –Ї—А–Є–Ї–Є –љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Ь—Л —Г–ґ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Я—А–Є—З–Є—В–∞–ї–Є –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ. –Ґ–Њ –Љ–∞–Љ–Є–і–∞ –Э–∞—В–Њ, —В–Њ –Љ–∞–Љ–Є–і–∞ –У—Г—А–∞–љ–і–∞, –∞ —В–Њ –±–Є—Ж–Њ–ї–∞2 –°–∞–ї–Њ–Љ—Н, –ґ–µ–љ–∞ –і—П–і–Є –Р–љ–і–µ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –і–Њ–Љ—Г, –≤—Б–µ, –Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Њ—В—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є —Б–Њ—Б–µ–і–Є, –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П —Б—В–Є—Е–ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–∞ –≤ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є — –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Ј–≤–µ–љ–Њ –≤ —В–Њ–є —Ж–µ–њ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–ї–Є –Ї—А–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П –Є —Б–µ–ї–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –Ї —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—О —Д–∞–Ї—В –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –±–∞–±—Г—И–Ї–Є, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Н—В–∞–њ.
–Т —В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А –љ–∞—Б, –і–µ—В–µ–є, –њ–Њ–≥–љ–∞–ї–Є —Б–њ–∞—В—М –њ–Њ—А–∞–љ—М—И–µ, –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –ґ–µ –і–Њ —Г—В—А–∞ –±–і–µ–ї–Є —Г –Њ–і—А–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л. –Р –љ–∞—Г—В—А–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —В–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В—Л, –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ї–µ–≥–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –£—Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, –Ї—В–Њ —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї, –љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–Ї–ї—П—Б—В—М—Б—П, –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є —З–µ–Љ-—В–Њ –Ј–∞–љ—П—В—Л –Є –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ —З–µ—Б—В–љ–Њ –Є –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ; —Е–Њ—В—П, —З–µ–≥–Њ —Г–ґ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М, –Є–љ—Л–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї–Є —Б–∞–Љ–Є —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї—П–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —В—П–ґ–µ—Б—В—М –≤—Л–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є —И—В–∞–±, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –і—П–і—П –Р–љ–і–µ. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —И—В–∞–±–∞ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–±—А–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е — —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –Р—А—З–Є–ї, —Г—З–Є—В–µ–ї—М –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–Є–і–µ–ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞, –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А—Б–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ј–∞–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–µ —И—В–∞–±–Њ–Љ; –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—В–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —В—А–µ–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≥—А–∞—Д–∞–Љ, –Ї–Њ–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є: 1. –Э–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П. 2. –Ш–Љ—П –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П. 3. –°—А–Њ–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≥—А–∞—Д—Л –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ј–љ–∞–Ї “+”. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤ —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–µ, —Б—В–Њ–ї—М –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–њ—Г—Й–µ–љ–Њ, –Ј–∞ —З—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л –Ї—А–∞—Б–љ–µ—В—М.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Є –Ы–∞–і–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є –Ї –Њ–і–љ–Њ—А—Г–Ї–Њ–Љ—Г –Ь–Є—Е–∞–Ї–Њ –Ј–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ —В–Њ–њ—З–∞–љ–Њ–Љ. –Т —Б–µ–ї–µ –љ–µ —Б—Л—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л —Б–µ–Љ—М–Є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–њ—З–∞–љ–∞, —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, — —Н—В–Њ –Є –Ы–∞–і–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї (—Г –љ–∞—Б –Є—Е –±—Л–ї–Њ —В—А–Є), –љ–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –≤—Б–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є —В–Њ–њ—З–∞–љ –Њ–і–љ–Њ—А—Г–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Є—Е–∞–Ї–Њ. –Ю–љ —Б—В–Њ—П–ї, –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Г–≥–ї—Г, –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б–∞—А–∞–є—З–Є–Ї–µ, –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ –љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ–Њ–Љ, –Ј–∞ –і–Њ–Љ–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Ї–Њ –Є —Б–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П —В–Њ–њ—З–∞–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Г, —В–Њ—В –≤–љ–Њ—Б–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ —Б–∞—А–∞–є—З–Є–Ї, —Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–Њ –њ–Њ—А—Л, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї. –Э–∞ –Ы–∞–і–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П: –Ї —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–µ–ї–∞–Љ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—П—Е –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л —Б –Љ–∞–ї—Л—Е –ї–µ—В. –ѓ –ґ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б—И–µ–µ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ.
–Ю–і–љ–Њ—А—Г–Ї–Є–є –Ь–Є—Е–∞–Ї–Њ –ґ–Є–ї –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г, —В–Њ–њ—З–∞–љ –±—Л–ї –љ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ, –Є —Б –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ—Л —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –±—Л—Б—В—А–Њ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, —Е–Њ—В—П, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г —П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –њ–µ—А–µ—В—А—Г—Б–Є–ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є—Е–∞–Ї–Њ –≤—Л–љ–µ—Б –Є–Ј —Б–∞—А–∞–є—З–Є–Ї–∞ —В–Њ–њ—З–∞–љ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є, —П –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–µ–Љ (–∞ –Є—Е —З–Є—Б–ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –Ы–∞–і–Њ, –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ). –Т –ґ–Є–≤–Њ—В–µ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї–Њ, –Є —П –µ–і–≤–∞ —Б–і–µ—А–ґ–∞–ї –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –і–∞—В—М —Б—В—А–µ–Ї–∞—З–∞. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Њ—В—М —Б—В—А–∞—Е –Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ–Ј–Њ—А–∞. –Ы–∞–і–Њ –Ї–∞–Ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Є –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А—И–Є–є (–љ–∞ —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞!) –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –≤—Л–±–Њ—А: –Є–і—В–Є –ї–Є–±–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, –ї–Є–±–Њ –≤ —Е–≤–Њ—Б—В–µ. –ѓ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ–ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ. –Я–Њ–є–і–Є —П —Б–Ј–∞–і–Є, –≤—Б—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г —Г –Љ–µ–љ—П –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Љ–∞—П—З–Є–ї –±—Л –њ–Њ–ї–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–њ—З–∞–љ, –Є –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї –±—Л —П —Н—В–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є –љ–µ—В, –∞ —В–∞–Ї —Б—В—А–∞—Е –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–ї —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Є –Ї–Њ–њ–Њ—И–Є–ї—Б—П –≤ –њ–∞–ї—М—Ж–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —П –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Ї—А–∞–є —В–Њ–њ—З–∞–љ–∞ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ.
–Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –Љ—Л –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –і–Њ–Љ–∞ –±–µ–Ј –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Л–Љ—Л–ї–Є –Є –≤—Л—Б—Г—И–Є–ї–Є —В–Њ–њ—З–∞–љ, –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞—В–µ—А—В—Г—О –і–Њ –±–ї–µ—Б–Ї–∞ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О –Њ—В –Љ–µ–±–µ–ї–Є –Ј–∞–ї—Г. –Ч–і–µ—Б—М –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–є –≥—А—Г–Ј –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ —А—Г–Ї–Є —Б—В–∞—А—И–Є—Е. –Ґ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —В–Њ–њ—З–∞–љ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –Ј–∞–ї—Л –Є –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Є –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–≤—А–Њ–Љ, –∞ –љ–∞ –Ї–Њ–≤–µ—А –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —В–µ–ї–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –љ–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї–Ї–∞—Е –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–ґ; –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –љ–∞–Ї—А—Л–ї–Є —В–µ–ї–Њ —Б–∞–≤–∞–љ–Њ–Љ –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–µ–ї–Є–Ј–љ—Л, —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —А—Г–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є—Ж—Л –њ–Њ–≤–µ—А—Е —Б–∞–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ–і –≥—А—Г–і—М—О, –∞ –≤ –Є–Ј–≥–Њ–ї–Њ–≤—М–µ –Ј–∞–ґ–≥–ї–Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —В–Њ–ї—Б—В—Г—О —Б–≤–µ—З—Г. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б–≤–µ—З–Є —П –µ—Й–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–љ–µ—Б–ї–Є —Б—В—Г–ї—М—П, —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Є—Е –≤–і–Њ–ї—М —Б—В–µ–љ –Є —Б–µ–ї–Є. –°–µ–ї–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л; –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –ї–Є—И—М –њ—А–Є—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–µ —Д—А–∞–Ј—Л –Њ —В—Й–µ—В–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ–≥–Њ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ.
–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –Њ–і–µ—В—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Э–Њ –Ј–∞—В–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—Б–µ –Њ–і–µ–ї–Є—Б—М –≤ —В—А–∞—Г—А, –Є —В–µ–ї–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–∞–є–Љ–Њ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Є–љ—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —В—Г–∞–ї–µ—В–∞—Е, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ —Б–Є–і–µ–≤—И–Є—Е –љ–∞ –љ–Є—Е. –Э–∞—И–Є—Е —Н—В–Њ –љ–µ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М: –Њ–±–µ –Љ–∞–Љ–Є–і—Л –Є –±–Є—Ж–Њ–ї–∞ –°–∞–ї–Њ–Љ—Н —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є —Б–µ–±–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–ї–∞—В—М—П. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Г –Љ–∞–Љ–Є–і—Л –Э–∞—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–є —В—А–∞—Г—А–љ—Л–є –љ–∞—А—П–і — –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г —Г –љ–µ–µ —Г–Љ–µ—А —Б–≤–µ–Ї–Њ—А, –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –Њ–љ–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Є —Б—Г–ї—В–∞–љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –±—Л —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ, –љ–Њ —В–Њ –њ–ї–∞—В—М–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ (–Љ–Њ–≥–ї–∞ –ї–Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —В–∞–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є—В—Б—П!), –Є –Љ–∞–Љ–Є–і–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–∞ —Б—И–Є—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ, —З–µ–Љ –≤–µ–Ј—В–Є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б—В–∞—А–Њ–µ.
–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–є. –£—В—А–Њ–Љ –і–≤–Њ–µ —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є, –њ–Њ–≤—П–Ј–∞–≤ –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–Є, —З–µ–≥–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–љ–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є, —Б–µ–ї–Є –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ—Г –Є —Г–µ—Е–∞–ї–Є, –∞ –Ї –њ–Њ–ї—Г–і–љ—О –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —В–Њ—В, –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є, –±—Л–ї –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ –Є —Б–Љ–∞—Е–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞, —Е–Њ—В—П, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —П —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞–і–∞–ї —Б–µ–±–µ: –Ј–∞—З–µ–Љ –Љ–µ—А—В–≤–Њ–Љ—Г –≤—А–∞—З?! –Ф–Њ–Ї—В–Њ—А, –Є–ї–Є –Ї—В–Њ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї, –≤—Л–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є—Ж—Л –Є–Ј –Ј–∞–ї—Л –Є –њ–Њ—З—В–Є —Ж–µ–ї—Л–є —З–∞—Б –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б —В—А—Г–њ–Њ–Љ. –І—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Љ –і–µ–ї–∞–ї, —П –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, –і–∞ –Є –Ы–∞–і–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–Њ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ –Љ—Л –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ “–±–∞–ї—М–Ј–∞–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ”, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є.
–Т—Б–µ –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞, –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є—П, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ—Л –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–Ї—Г –Є–Ј –Ч–Р–У–°–∞ (—Н—В–Њ –Ы–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї — –Є–Ј –Ч–Р–У–°–∞, —Е–Њ—В—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ — –љ–µ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ—О –њ–µ—З–∞—В–Є — —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А—П–ї–∞, —З—В–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М.
–Ч–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є “–і–Њ–Љ–Њ–≤–Є–љ—Г” (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ –≠—Ж–µ—А–∞ –≥—А–Њ–±).
–°–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —В—А–∞—Д–∞—А–µ—В–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В: “–£–≤–∞–ґ……. . –°–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, 19 –Є—О–љ—П, –≤ 5 —З.”. –Я–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є —В—А–µ—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї, –љ–Њ –љ–µ –≤ —И—В–∞–±–µ, –∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Н—В–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П.
–Э–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–і—Л –і–ї—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г—Б–Њ–њ—И–µ–є –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–Њ—Б–µ–і–Є (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–∞–Љ–Є, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤ –Є–Ј —И—В–∞–±–∞, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В—М, —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ–Є).
–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞–ї–∞–і–Є–ї–Є—Б—М. –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л –Љ–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –ї–µ–≥–Ї–Є–є —Б–њ–Њ—А, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—В—М –ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М—Б—П –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ—Д–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ–Є, –љ–Њ –і—П–і—П –Р–љ–і–µ –Є –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А—М—О –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ —В–Њ —Г—В—А–Њ, –≤–Ј—П–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Є —А–µ—И–Є–ї–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ—Д–Њ–љ–∞.
–Э–∞–љ—П–ї–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ–Њ–≤–∞—А–∞–Љ–Є, –Є –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Ј–∞–≤–Њ–Ј –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ (–Ї–Њ—В–ї–Њ–≤, —В–∞—А–µ–ї–Њ–Ї, –њ–Њ–і–љ–Њ—Б–Њ–≤, –±–ї—О–і, –±—Г—В—Л–ї–Њ–Ї, —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–≤, –љ–Њ–ґ–µ–є, –≤–Є–ї–Њ–Ї, —Б—В–Њ–ї–Њ–≤, —Б—В—Г–ї—М–µ–≤, —Б–Ї–∞—В–µ—А—В–µ–є, —Б–∞–ї—Д–µ—В–Њ–Ї...).
–Р–≤—В–Њ–±—Г—Б—Л –љ–µ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –і–≤—Г—Е —И–∞–≥–∞—Е –Њ—В –і–Њ–Љ–∞.
–Ш –≤–Њ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Х—Б–ї–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –і–≤–Є–ґ—Г—Й–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ — –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П, –љ–µ—Г—Б—В–∞–љ–љ–∞—П, –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, —В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–є –њ–ї–∞–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞, –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Г—В—А–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Є–і. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞ –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ –≤ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —А–Є—В—Г–∞–ї—Л, –њ—А–Є–Њ–і–µ–ї–Є—Б—М, –∞ —Б –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–∞—А–Њ–і –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ —Б—В–∞–ї —Б—В–µ–Ї–∞—В—М—Б—П –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г. –Ф–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –љ–∞ –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і—Л —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б–µ–ї, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –ґ–µ –і–µ–љ—М –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞—Е, –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞—Е –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е –Є–Ј –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤, –Є –Ї —В—А–µ–Љ —З–∞—Б–∞–Љ –њ–Њ–њ–Њ–ї—Г–і–љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –±–∞–±—Г—И–Ї—Г –Р–љ–љ—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—Г—В—М, –±—Л–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Я–Њ–ї–≥–µ–Ї—В–∞—А–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є — –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –љ–µ–Љ–∞–ї–∞—П. –Э–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –Є–≥–Њ–ї–Ї—Г –љ–µ–Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ—В–Ї–љ—Г—В—М, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ-–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–µ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –љ–∞ —П—А–Љ–∞—А–Ї–∞—Е –Є–ї–Є, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–Є—В–Є–љ–≥–∞—Е. –І—В–Њ–±—Л —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Є —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–Ї—Г—Б–∞ –≤–Њ —А—В—Г, —В—Г—В –ґ–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї—О: –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —П—А–Љ–∞—А–Њ–Ї –Є –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤, –≥–і–µ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–∞ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–ї—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ — —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–µ–є, –∞ –≤ –Њ–±–Њ–Є—Е — —А–µ–Ј–Ї–Є–Љ –Ј–ї–Њ–≤–Њ–љ–Є–µ–Љ, –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞, —З–Є—Б—В–Њ—В–∞, –њ–µ—Б—В—А—Л–µ –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–Є, –±–µ–ї—Л–µ —Б–Њ—А–Њ—З–Ї–Є, –Ї—А–∞—Е–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є—З–Ї–Є, –Ї—А—Г–ґ–µ–≤–∞, –±–∞–љ—В—Л, –Њ—З–Ї–Є, –±–µ–ї–Њ—Б–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Л–µ –њ–ї–∞—В–Ї–Є, –њ–µ—Б—В—А—Л–µ –Ј–Њ–љ—В–Є–Ї–Є, —И–ї—П–њ—Л –Є –Љ–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–µ–њ–Є. –Т–Њ–Ј–і—Г—Е –Є—Б–Ї—А–Є–ї—Б—П –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л–µ —Г–ї—Л–±–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–≥–∞–ї–Є –Є–Ј –і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б—Л –і—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–Є—П.
–†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Љ—Л –љ–µ—Б–µ–Љ –љ–∞ —Б–µ–±–µ –њ–µ—З–∞—В—М —Н–њ–Њ—Е–Є, –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ—П—П –љ–∞—И–∞ –±–µ—Б–њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ —Б–≤–Є—Б—В—П—Й–Є–Љ–Є –≤–µ—В—А–∞–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ —З–µ–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —В–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –≤–ї–∞–і—Л–Ї —Е–Њ–і—П—В –≤ —В–µ—Е –ґ–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е, —З—В–Њ –Є —А–∞–љ—М—И–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ —В–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л –±–ї–Є—Б—В–∞–ї–Є –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ–Њ–є, –∞ –љ—Л–љ–µ –ї–Њ—Б–љ—П—В—Б—П –Њ—В –≤–µ—В—Е–Њ—Б—В–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П — –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ —Н—В–Њ–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л, –Є –±—Л–ї–Њ –±—Л –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л.
–ѓ —Е–Њ—З—Г —Н—В–Є–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—Е–∞–±–∞–Љ–Є, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л. –Э–∞—И–∞ —А–Њ–і–љ—П –Є –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–µ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≥–Њ—А–і–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–Є–Љ (–Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—З–љ—Г—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е –≤–µ–і—Г—В —Б–µ–±—П —В–∞–Ї, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Љ –њ–∞–ї—М—Ж–∞ –≤ —А–Њ—В –љ–µ –Ї–ї–∞–і–Є). –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Б—А–µ–і–Є —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є — —П –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г –ї–Є—И—М –Ї—А–Њ–≤–љ—Л—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б—В–Њ–ї—М –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —З–µ—Б—В—М –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л, — –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є (–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є-–њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є) –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞—Г–Ї (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, –Ј–∞–Љ–µ—З—Г –≤—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—М, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж –Є –Љ–∞–Љ–Є–і–∞ –У—Г—А–∞–љ–і–∞). –Ю–љ–Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г — —З–Є—Б—В—Л–µ, –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є—З–µ—Б–∞–љ–љ—Л–µ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–Љ—Л–µ, –њ–Њ–ї–љ—Л–µ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ–∞ — —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ (–њ—А–Є–њ–∞–≤ –≥—Г–±–∞–Љ–Є –Ї —А—Г–Ї–µ –Є–ї–Є –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—П –µ–µ) –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–Љ–Є, –≤–Ј—П–≤ –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г, —З–Є–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ–Є, –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, —Г–ї—Л–±–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ—А–Њ–є –і–∞–ґ–µ —Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М, –љ–Њ —Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ—Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –±–∞–±—Г—И–Ї–µ –Р–љ–љ–µ, –∞, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П, –≤ –Љ–µ—А—Г —И—Г—В–Є–ї–Є –Є –≤ –Ј–љ–∞–Ї –ї—О–±–≤–Є –≥–ї–∞–і–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г, –∞ –љ–∞–і –Є—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Њ—А–µ–Њ–ї–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї –∞—А–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–є –і—Л–Љ –Њ—В –Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б–Є–≥–∞—А–µ—В. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–µ. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і — –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, –љ–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ, —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М, –љ–Њ –љ–∞—И–∞ —Б–µ–Љ—М—П –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ — –∞ –і–ї—П —В–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Н–њ–Њ—Е–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, — —З—В–Њ, –њ—А–Є–і–Є –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞—Б –Ј–љ–∞–ї (–Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ), –Њ–љ–∞ –љ–µ —Г—А–Њ–љ–Є–ї–∞ –±—Л —Б–µ–±—П –≤ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В—А–∞–њ–µ–Ј–∞ –Є –≤ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–∞ –±—Л—В—М –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є.
–≠—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –∞—А–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ. –Ч–∞–њ–∞—Е–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –і–Њ–Љ–∞ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Г –≤–µ—В–µ—А–Ї—Г —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–≤–Њ—А–∞. –Ґ–∞–Љ, –Ј–∞ –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ—Б—В—А–∞. –Э–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–љ–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—В–ї–∞—Е —З—В–Њ-—В–Њ –Ї–ї–Њ–Ї–Њ—В–∞–ї–Њ, –Є–Ј–і–∞–≤–∞—П —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –Є –Є—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –∞—А–Њ–Љ–∞—В—Л. –Т–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і –Ї–Њ—В–ї–∞–Љ–Є –Є –∞—А–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –њ—П—В–µ—А—Л—Е –њ–Њ–≤–∞—А–Њ–≤-–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –і–≤–Њ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є, –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –њ—Г–Ј–∞—В—Л–Љ–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А–Њ–µ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л—Е, — –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ–Є –Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –њ—Г–Ј–∞—В—Л–Љ–Є. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, –Ј–∞ –і–Њ–Љ–Њ–Љ, –љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ — —З—В–Њ–±—Л –і—Л–Љ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л, –±—Л–ї–∞ –љ–∞—В—П–љ—Г—В–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–Ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–Њ–≤ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞–ї–Є –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –±–µ–ї—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Љ–Є–ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л.
–Х—Б–ї–Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, –і–Њ–ї–≥–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ—А–Њ–ґ–Є—В–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ — –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–Ї–Њ–≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–µ–±—П –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–Њ–ї—М–≥–Њ—В–љ–Њ (—Е–Њ—В—П, –љ–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б—В–µ–њ–µ–љ—М —Н—В–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–є). –Т–µ–і—М –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞, —Ж–∞—А—П—Й–∞—П –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л—Е –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е, –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–µ—И—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—Г—В—М —Г—Б–Њ–њ—И–µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–µ–Ї—Б–µ–ї—О –≤—Б–µ –Є–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ, –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ—Г—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є –Љ–Є—А–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М—О, —В—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –њ–Њ–Ї–Њ—П, —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ, —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ –Њ—В —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Ж–Њ–Ї–∞–љ—М—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –Є —Д–∞–ї—М—И–Є–≤—Л—Е –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–≤, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ —Е–Љ—Г—А–Є—В—М—Б—П, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Є –≤—Л–њ–Є—В—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї. –ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Н—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –µ—Й–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–≤—И–Є–µ—Б—П —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є.
–Я—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П. –Т –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–Є–ї–µ—В–∞—Е –±—Л–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ “–њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤”, –љ–Њ —Н—В–Њ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П; –≤ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –±–Є–ї–µ—В–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, —Н—В–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –љ–∞—И–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г, –і–∞ –Є –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ –≤ –Є—О–љ–µ — –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–ї—П –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ. –Э–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П — —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О –Њ —Б–µ–ї–µ, –∞ –љ–µ –Њ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≥–і–µ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, — –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є –≤—Б–µ —В–µ, —З—М–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є–ї–Є, –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ—З–µ–љ—М –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ — –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Г–ґ–µ –љ–µ –ґ–і–∞–ї–Є –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–Є–ї–µ—В–∞—Е –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ.
–Ф–Њ –њ—П—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —А–µ–±—П—В, –Є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Љ–µ–љ—П –Є –Ы–∞–і–Њ, –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –±–∞–ї–Ї–Њ–љ. –Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–∞—И–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л —Б –≤–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ–∞–Љ–Є —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ: –Љ–µ–ґ–і—Г –≥—А–Њ–±–Њ–Љ –Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є, —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б–Њ–њ—И–µ–є. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —В–Њ–њ—З–∞–љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б—Г—Й–Є–Љ –њ—Г—Б—В—П–Ї–Њ–Љ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —В–Њ –ґ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Є —А–µ–±—П—В–љ—П –Љ–ї–∞–і—И–µ –љ–∞—Б, –љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ —Й–µ–Ї–Њ—В–∞–ї–Њ –Љ–Њ–µ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–µ.
–Ь—Л –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±–∞–ї–Ї–Њ–љ –Є —Б—В–∞–ї–Є –≤ —А—П–і –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–є.
–Ш –≤–Њ—В — –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ!
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В–µ–ї—М — –і—П–і—П –У–Њ–±—А–Њ–љ, –љ–µ–±—А–Є—В—Л–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞, —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є –≥–Њ—А–Є–ї–ї—Г, –ї–Є—Ж–Њ–Љ — —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—Б—В–∞, –∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ — –∞–љ–≥–µ–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ –Ї–Њ—Б–Љ–∞—В—Л—Е –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –Ј–∞–ї—Г –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ, —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —А–Є—В—Г–∞–ї–Њ–Љ –≤—Л-–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Њ—В—В—Г–і–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Б –Ы–∞–і–Њ —В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –ї–Њ–Ї—В—П–Љ–Є.
–Ф–≤–Њ—А –љ–∞—И –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї, –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —В—А–Є —А–∞–Ј–∞ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ —И–Є—А–Є–љ—Г. –Ф–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –Є –і–Њ –Ї–∞–ї–Є—В–Ї–Є —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ. –Ч–∞ –і–≤–Њ—А–Њ–Љ, –њ–Њ—З—В–Є —Г —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї–∞–ї–Є—В–Ї–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П —Б–њ—Г—Б–Ї. –Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ —И–ї–∞ –≤–і–Њ–ї—М —Б–Ї–ї–Њ–љ–∞ –Є –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞—Б—М –≤–љ–Є–Ј, –Ї –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А–µ; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Г, –Њ—В—Б—О–і–∞ — —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є, —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–Є —Н—В–∞–ґ–∞ (–Њ–і–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞ –≤—Л –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ —З—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ) — —Б–њ–µ—А–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й—Г—О –Є–Ј –љ–µ–њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ —Н—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ — –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ — –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї–Њ—Б—М —Б—В—А–Њ–≥–Њ–Љ—Г –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –Є –Ы–∞–і–Њ — –Љ—Л –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –і–Њ—А–Њ–≥—Г –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ — —В–Њ—З–љ–Њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–ї–Є. –Ш –≤–Њ—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–∞—А—Г—И–Є–ї–Њ—Б—М. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ–Њ —В—А–Њ–њ–µ, –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —И–∞–њ–Ї–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ—З—В–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—И–µ–µ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≤–Ј–Њ—А—Г, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —И–∞–њ–Ї–Њ–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Љ —В–Є–њ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–±–Њ—А–∞, –љ–Њ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З—В–Њ –ґ–µ –µ—Й–µ —Н—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М?! –Ш —И–∞–њ–Ї–∞ —Н—В–∞ –і–≤–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ –∞—Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ, –њ–Њ–њ–Є—А–∞—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї–Є –Є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ —Г–Љ–∞–ї–Є–ї–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ–і–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–і–Њ–ї–µ–≤—И–Є–є –њ–Њ–і—К–µ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ –Ј–∞—Г—А—П–і–љ—Л–Љ –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ, –∞ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –љ–∞—Б, –Љ—Л —З–µ—В–Ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є — –Є –±—Л–ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ —З—В–Њ-—В–Њ –ґ—Г—В–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–µ, — –Њ–і–µ—В –Њ–љ –≤ —З–Њ—Е—Г, –∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –±–∞—И–ї—Л–Ї–Њ–Љ.
–Я–Њ–Ї–∞ —П, –≥–і–µ-—В–Њ –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Є –≤–Є–ґ—Г —В–Њ, —З—В–Њ –≤–Є–ґ—Г, –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—В–Є–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ, –Є –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–є, –≤ –Љ–µ—А—Г –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Є–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г –і–љ—О –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л, —Б—В–Є—Е. –Ґ–Є—И–Є–љ–∞ –≤–љ–µ—Б–ї–∞ –і–Є—Б—Б–Њ–љ–∞–љ—Б –≤ –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ—Г—О –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г. –Ь–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ — –Є –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≥–ї–∞–Ј —Б –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г.
–Э–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е (–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ — —А–µ–ґ–µ) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї –њ–Њ–ї—Г–і–љ—О —Г–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і —Е–Љ–µ–ї—М–Ї–Њ–Љ. –≠—В–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В–µ –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б–Є–ї—Г —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ (–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П) –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л. –Ю—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Є—Е –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –љ–µ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞—О—В —Б—В–Њ–ї –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–µ–ї–µ—Е–Є3, –љ—Г –∞ –µ—Б–ї–Є –Є–љ—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –љ–∞–ї–µ–≥–∞—О—В –љ–∞ –≤–Є–љ–Њ, —В–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ—Б—М, –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ: —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—В—Г—А–∞ —Б–ї–∞–±–∞ –Є –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–∞, —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Г–ґ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–∞—Б –С–Њ–≥. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О —Б–µ–±—П —В—А–µ–Ј–≤–Њ–Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ (–µ—Б–ї–Є –Њ—И–Є–±–∞—О—Б—М, –њ–Њ–њ—А–∞–≤—М—В–µ) –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–∞–ї–µ–Ї –Њ—В –Љ—Л—Б–ї–Є, –±—Г–і—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –љ–∞—И–Є—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–Є–і–µ–љ–Є–є, –љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ—Л, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ј–љ–∞–µ–Љ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, —П –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞—О —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –Є –Њ–± —Н—В–Є—Е –≥–Њ—Б—В—П—Е, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–µ—А—Б–Є—П, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –±—Л–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –≥–Є–њ–љ–Њ–Ј.
–Ф–ї–Є–љ–љ–Њ–љ–Њ–≥–Є–є, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –±–µ–ї—Л–є –Ї–Њ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ, —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ. –Т—Б–∞–і–љ–Є–Ї –±—Л–ї —В–Њ–ґ–µ –±–µ–ї—Л–є, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –±–µ–ї–∞—П —З–Њ—Е–∞, –±–µ–ї—Л–є –±–∞—И–ї—Л–Ї, –±–µ–ї–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ — –≤—Б—П —Н—В–∞ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ–∞—П –ї—Г—З–∞–Љ–Є –Ј–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –±–µ–ї–Є–Ј–љ–∞ –Ј–∞—В–Љ–µ–≤–∞–ї–∞ —З–µ—А–љ—Л–є —Ж–≤–µ—В –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–њ–Њ–≥. –У–Њ–ї–Њ–≤—Г –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ. –Р –≤–Ј–Є—А–∞–≤—И–µ–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ — –≤—Б–µ –і–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ, —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –±–∞–±—Г—И–Ї–µ –Р–љ–љ–µ, —П –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї–Є, –Є –ї–Є—И—М –љ–µ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –њ–ї–∞–Љ—П –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–≤ –Є–ї–Є —Б–Є–≥–∞—А–µ—В–љ—Л–є –і—Л–Љ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –°—А–µ–і–Є –љ–∞—Б, –Ј–∞ –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л—Е –љ–µ–≤–µ–ґ–і –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –≤—Б–µ –Љ—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї — —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ, –∞ –Ї–Њ–љ—М — –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Є –µ—Б–ї–Є –Љ—Л —В–∞—А–∞—Й–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ–і–µ–є—Ж—Л — –љ–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Ж–∞—Ж–Ї–Є, —В–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≤–Є–љ–Њ–є –Њ—В–Њ—А–Њ–њ—М –Є –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤—И–Є–µ –љ–∞–Љ–Є. –Ш, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є: —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–є –∞–љ–∞—Е—А–Њ–љ–Є–Ј–Љ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В—М, –Њ—Б–Њ-–Ј–љ–∞—В—М –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –µ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤–µ—Й–µ–є.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Ї–Њ–љ—М –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ, –љ–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г—В—Л, –≤–Њ –і–≤–Њ—А –љ–µ –≤–Њ—И–µ–ї. –Т—Б–∞–і–љ–Є–Ї –љ–∞—В—П–љ—Г–ї —Г–Ј–і—Г. –Ъ–Њ–љ—М –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –Є –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї —Б –љ–µ–≥–Њ. –Ы–µ–≥–Ї–Њ —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї. –ѓ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О —Н—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Л —Б –Ы–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і–µ—В–∞–ї–µ–є — —В–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Є —П—Б—В—А–µ–±–Є–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ — –Є –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–Њ—З–љ–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –ї–µ—В, –љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ–ї–Њ—З–Є –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є —В–Њ—В –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤–µ—А—Е–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї —Б –Ї–Њ–љ—П, –≤–Ј—П–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і —Г–Ј–і—Ж—Л, –Њ—В–≤–µ–ї –Њ—В –≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–∞–≥–Њ–≤ (–Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Љ–µ—И–∞—В—М –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –Є –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ), –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–ї –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Г–Ј–і–µ—З–Ї–Є –њ–µ—В–ї–µ–є –Є –љ–∞–Ї–Є–љ—Г–ї –µ–µ –љ–∞ –Ї–Њ–ї –Є–Ј–≥–Њ—А–Њ–і–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤—Б–µ —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞ —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–ї—Л —З–Њ—Е–Є, —З—Г—В—М –њ–Њ–і–≤–µ—А–љ—Г–ї —А—Г–Ї–∞–≤–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–ї –ї–∞–і–Њ–љ—П–Љ–Є –њ–Њ –±–∞–Ї–µ–љ–±–∞—А–і–∞–Љ, –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –љ–∞—И—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤—Л–Љ, –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —И–µ–ї –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—М.
–Т —В–Њ—В –ґ–µ –Љ–Є–≥ –Љ–Њ–є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –Є –±–ї–Є–Ј–љ—П—И–Ї–Є –і—П–і–Є –Р–Ї–∞–Ї–Є—П — –Ґ–Є–Ї–∞ –Є –Э–Є–љ—Г—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–µ —А–Њ–і–љ–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ—Й–µ –љ–µ –і–Њ—А–Њ—Б–ї–Є –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ—Б—В–Є –≤–µ–љ–Ї–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–Є, –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –Љ–µ—Б—В–∞ –Є —Б –і–Є–Ї–Є–Љ —А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г –Њ–≥—А–∞–і—Л –Ї–Њ–љ—О (–ґ–Є–≤–∞—П –ї–Њ—И–∞–і—М –±—Л–ї–∞ –і–ї—П –љ–Є—Е –≤ –і–Є–Ї–Њ–≤–Є–љ–Ї—Г, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –љ–µ–є –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є).
–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є, –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, —Г–ґ–µ –≤–Њ—И–µ–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А –Є –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ. –Э–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М: —Б–∞–Љ —А–Њ–Ї –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –љ–∞—Б, —Е–Њ—В—П —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ.
–Ф–µ–љ—М —Б—В–Њ—П–ї —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б—В–Њ—П—В –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ–і–∞ –≤ –≠—Ж–µ—А–∞: –љ–µ–±–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ —В–Њ —Е–Љ—Г—А–Є–ї–Њ—Б—М, —В–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–ї–Њ—Б—М, –њ—А–Є—А–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П –≤—Б–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —А–µ—И–Є—В—М — —В–Њ –ї–Є –µ–є –њ—А–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –і–Њ–ґ–і–µ–Љ, —В–Њ –ї–Є –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ–∞ –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ —Б—Г—И—М, –љ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ–µ–ї–∞ –љ–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ–µ—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –†–∞–Ј–Љ–µ—В–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –љ–µ–±—Г –Ї–ї–Њ—З–Ї–Є –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Є –Љ–∞–ї—Л–µ, —Б —Г—В—А–∞ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ—П —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г — —В–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ, –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—В–µ–љ—П—П, —В–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј–ї–µ, –∞ —В–Њ —В–∞–Ї –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –±—Г–і—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Г–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–∞–ї–Њ–є –љ—Г–ґ–і—Л, –љ–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –ґ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є—Б—М –≤—А–∞—Б—Б—Л–њ–љ—Г—О, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–љ—П. –Э–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –≤–Њ—И–µ–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –і–Њ–Љ—Г, –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Є–≥—А—Л –Є —А–≤–∞–љ—Г–ї–Є –≤–і–∞–ї—М, –Ї –Њ–Ї–Њ–µ–Љ—Г, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –і–∞ –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г –і–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —Г–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Є–Ј –≤–Є–і—Г —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ –і–≤–Њ—А–µ.
–Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –±—Л–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї –Є —Б—Г—Е–Њ–њ–∞—А, –і–ї–Є–љ–љ–∞—П —З–Њ—Е–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–µ–љ–Є. –®–ї–∞ –ї–Є –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г, –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї: –љ–µ –ґ–∞—А–Ї–Њ –ї–Є –µ–Љ—Г?
–Ю–љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А, –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–µ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –≤ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–љ–Є–Є, –Њ–ґ–Є–ї–Њ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ, –∞ —В–µ, –Ї—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –і–Њ–Љ—Г, –Є –ї–Є—И—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –і–Њ—А–Њ–≥—Г –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж—Г. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ (–Є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ) –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є —А–∞—Б—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ, —З–µ–Љ —И–µ–ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј—А–Є–Љ–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞, –Є –≤–Њ–ї–љ–∞ —Н—В–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞–ї–∞ –ї—О–і–µ–є –њ—П—В–Є—В—М—Б—П. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –і–Њ—Б—В–Є–≥ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –і–≤–Њ—А–∞, –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –Ї –і–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞.
–Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж —И–µ–ї, –≥–ї—П–і—П –њ—А—П–Љ–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–љ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Є–ї–Є –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞—Г–Ї, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –љ–∞ –љ–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –≥–Њ—А–±–∞—В—Л–є –љ–Њ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Є–і, –Є — –Љ—Л —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ — —Б–≤–µ—В–ї–Њ–Љ–µ–і–≤—П–љ—Л–µ, –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞.
–Ю–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –±–∞–ї–Ї–Њ–љ—Г –Є, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ (–≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Ж–∞—А–Є–ї–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞), –±—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–Є–Љ–Њ–ї–µ—В–љ—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є—О. –Ч–і–µ—Б—М —П —Б—З–Є—В–∞—О –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–і —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ “–≤–Ј–≥–ї—П–і” –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤ –≤–Є–і—Г –љ–µ –Є–Љ–µ—О. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –љ–∞—И–µ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л –Є–і—Г—В –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –±–∞–ї–Ї–Њ–љ—Г –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Њ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В –Є –Є–і–µ—В —Г–ґ–µ –њ–µ—А–њ–µ–љ–і–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ –≤–≤–µ—А—Е. –≠—В–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є—О, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ –љ–Є–Љ, –µ—Б–ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ –≤—Б–Ї–Є–љ—Г—В–∞ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ –њ–Њ –ї–Є—Ж—Г –µ–≥–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Њ — —В–Њ –ї–Є —В–µ–љ—М, –∞ —В–Њ –ї–Є —Б–≤–µ—В, –љ–Њ –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М –Љ–Њ–є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В) —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г! –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж, –Њ–і–Њ–ї–µ–≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і –Њ—В –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є–Є, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П —З–∞—Б—В–Є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї –±–∞–ї–Ї–Њ–љ –Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ј–∞–ї—Г, –≥–і–µ –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —П–і—А–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–њ—А–∞–≤–∞ —Г –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ: –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ, –і—П–і—П –Р–љ–і–µ, –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж, –і—П–і—П –Р–Ї–∞–Ї–Є–є –Є –Ј—П—В—М—П — –У–Є–≤–Є –Ю—Б–µ–њ–∞—И–≤–Є–ї–Є –Є –Я–∞—В—А–Є–Ї –≤–∞–љ –і–µ—А –Ы–∞–є–љ (–±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–љ–Є–Ј—Г —Г –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л). –Ю—В–µ—Ж –Є –і—П–і—М—П (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–∞–љ –і–µ—А –Ы–∞–є–љ–∞) —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –≤—Л–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Є–±–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є (–≤—Л—Б—И–µ–µ —Г—З–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –і–∞–ґ–µ –і—П–і—П –Р–љ–і–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ), –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Њ, –љ–Њ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј—Г–Љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Є–ґ–µ –љ–µ –Є–Ј—Г–Љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–∞, —В–Њ –µ–≥–Њ —А—Г–Љ—П–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Є—Б–њ—Г–≥, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –Є –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–∞, –і–∞–ґ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ (—З—В–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —Е–Њ—В—П –Є –≤–љ—Г—И–∞–ї–Њ —Б—В—А–∞—Е –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ, –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Њ). –Т—Б–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–∞, –±—Л–ї–Є –њ—А–Є –≥–∞–ї—Б—В—Г–Ї–∞—Е. –Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Ї–Є–≤–љ—Г–≤ –Є–Љ, –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤ –Ј–∞–ї—Г. –Ч–і–µ—Б—М —Б–Є–і–µ–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –љ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –±–Є—Ж–Њ–ї–∞ –°–∞–ї–Њ–Љ—Н, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –Є –Є–Љ, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ “–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О –≤–∞—Б” –Є–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –і—А–Њ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ—В –ї—О–±–Њ–њ—Л—В—Б—В–≤–∞.
–Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –ґ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ј–∞–ї—Л, –Њ–±–Њ—И–µ–ї –≥—А–Њ–± –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Л—З–∞—О, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –љ–∞–Ј–∞–і, –≤–і—А—Г–≥ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї –±–∞–±—Г—И–Ї–µ –Р–љ–љ–µ, –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Є, —Б–Ї—А–µ—Б—В–Є–≤ —А—Г–Ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є, –Ј–∞–Љ–µ—А –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ. –Х—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П, —В–Њ –Њ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Є–Ї–∞. –Ы–Є—З–љ–Њ —П, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П, –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї.
–Ю–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—П–ї —В–∞–Ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і. –Ч–∞—В–µ–Љ —А–∞–Ј–љ—П–ї —А—Г–Ї–Є, –ї–µ–≤—Г—О –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї, –њ—А–∞–≤—Г—О –ґ–µ —Б—Г–љ—Г–ї –Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е—Г. –Ь–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ — –Є (–љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї —Г–Љ—Г–і—А–Є–ї—Б—П –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–≤—А–µ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ) –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –Њ—В—В—Г–і–∞ –Њ–і–Є–љ —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї. –Ю–і–Є–љ —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є–Є — –±–µ–ї—Л–є, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –њ—Л—И–љ—Л–є. –°–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П, –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї –≤ —А—Г–Ї–Є –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П. –ѓ —В–Њ—В—З–∞—Б –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є—О, –Є —В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ –ї–Є—Ж—Г –µ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Њ — —В–Њ –ї–Є —В–µ–љ—М, —В–Њ –ї–Є —Б–≤–µ—В, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–є —В—А–µ–Ј–≤—Л–є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ, —П –≤—Б–µ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—О (–Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—Б—В–∞—О—Б—М –њ—А–Є —В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–Є). –Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞–і –≥—А–Њ–±–Њ–Љ, –љ–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Ї –≤–Є—Б–Ї–∞–Љ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л –Є –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–ї –љ–∞ –µ–µ –ї–±—Г –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г–є. –ѓ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є–ї —Н—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Е–Њ—З—Г –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М —В—Г —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є “–њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М” –Є “–Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ—В—М –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г–є”. –С–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ –љ–µ —И–µ–ї–Њ—Е–љ—Г–ї–∞—Б—М, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–Љ–µ–ї—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–∞. –Ф–∞ –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞—В—М! –Ъ—Г–і–∞ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј –µ–µ —Е–ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞ —А—Г–Љ—П–љ–µ—Ж –љ–∞ —Й–µ–Ї–∞—Е, –Є–Ј–≥–Є–± –±—А–Њ–≤–µ–є, –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–±—Л—В—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –њ–Њ—В–∞–µ–љ–љ—Г—О —Г–ї—Л–±–Ї—Г –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–Њ—Б—В–∞–ї—М–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є, –љ–Њ, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –±–µ–Ј –љ–Є—Е –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Р–љ–љ–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–∞ –≤ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–µ.
–Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Ј–∞–ї—Г.
–Ґ—Г—В —П –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–∞. –Ъ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є –Є—Б–њ—Г–≥–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞. –Ґ—А–µ–≤–Њ–≥–∞ –Є –µ—Й–µ –љ–µ–Ї–∞—П —Б—Г–Љ–µ—А–µ—З–љ–∞—П —В–µ–љ—М —В–Њ –ї–Є —Б—В—Л–і–∞, —В–Њ –ї–Є —Б—В—А–∞—Е–∞, —В–Њ –ї–Є
—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є — –љ–µ –Ј–љ–∞—О... –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ, —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —П–і–∞–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—Й–µ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –і—А–Њ–±—П—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –і—Г–Љ–∞—О, –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ, –Ї–Њ–Љ–Є—З–љ—Л–Љ.
–ѓ —Б—В–Њ—П–ї —Г –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–ї—Г, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Б —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Л—И–µ–ї –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–µ—Ж. –Ю–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Љ–µ–љ—П, –Є, –њ–Њ–Љ–љ—О, —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, –љ–µ –Ї–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –ї–Є –Љ–љ–µ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–є — –Љ–µ–љ—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ, –≤—Б–∞–Љ–і–µ–ї–Є—И–љ—Л–є –ї–Є –Њ–љ, — –љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞ —П –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї—Б—П –Є –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О — –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–љ —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –Љ–Є–Љ–Њ.
–Я–µ—А–µ—Б–µ–Ї –±–∞–ї–Ї–Њ–љ, —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ (–≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ–∞–≥–љ–Њ–ї–Є–Є –Є –љ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї) –Є –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—Г—В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ. –Т —Ж–∞—А—П—Й–µ–Љ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–Є (—З—В–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Љ–∞–ї–Њ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–∞) –Њ–љ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї –і–≤–Њ—А, –≤—Л—И–µ–ї –Ј–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ, –≥–і–µ –ґ–і–∞–ї –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Ї –Ј–∞–±–Њ—А—Г –Ї–Њ–љ—М, –Њ—В–≤—П–Ј–∞–ї –µ–≥–Њ, –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –≤ —Б–µ–і–ї–Њ, –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –ї–µ–≥–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ, –Є —В—А–Њ–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—П; –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ—Г, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—П—Б—М –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј, — —Б–њ–µ—А–≤–∞ –Є—Б—З–µ–Ј –Ї–Њ–љ—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ —З–Њ—Е–∞, –∞ –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є –±–∞—И–ї—Л–Ї.
–Ш —В—Г—В —А–∞–Ј–Љ–µ—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –Њ–±–ї–∞–Ї–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г, –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ—П–Љ–Є, –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є—П –і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й—Г, –њ–Њ—И–µ–ї –ї–µ—В–љ–Є–є, —В–µ–њ–ї—Л–є, —В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤—Л–є, –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є–є –Ф–Ю–Ц–Ф–ђ.
...–Ґ–Њ–ї–Ї–Є –Є –њ–µ—А–µ—Б—Г–і—Л, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є, –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ –≤—Л–љ—О—Е–Є–≤–∞–≤—И–Є–µ —В—А–µ—Й–Є–љ—Л –Є —Й–µ–ї–Є –≤ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –љ–∞—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є, —В–Њ –≤ –≤–Є–і–µ —П–і–Њ–≤–Є—В–Њ–є –Є—А–Њ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –±–µ–Ј–Њ–±–Є–і–љ–Њ–є —И—Г—В–Ї–Є, —В–Њ –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–є, —В–Њ –њ–µ—З–∞–ї–Є –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б—В–Є, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М, —Б—В–Є—Е–ї–Є, –Є –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–ї–µ—О. –Р —Б–≤–µ—В–ї–∞—П, —З–Є—Б—В–∞—П –і—Г—И–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Р–љ–љ—Л — —П –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Б—М –Є –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ — —Ж–∞—А–Є—В –Є –±—Г–і–µ—В —Ж–∞—А–Є—В—М –≤–Њ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –≤ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Є—П–љ–Є–Є –≤ –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Р–Љ–Є–љ—М!
1 –Ф —Н –≤ –Є — —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ.
3 –С –Є —Ж –Њ –ї –∞ — –ґ–µ–љ–∞ –і—П–і–Є.
3 –Ъ –µ –ї –µ —Е –Є — –њ–Њ–Љ–Є–љ–Ї–Є.
–Ф–ґ–µ–Љ–∞–ї –Ъ–∞—А—З—Е–∞–і–Ј–µ
(0 –У–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤)
 –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞